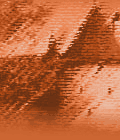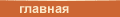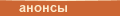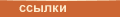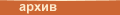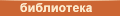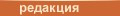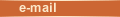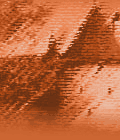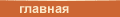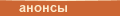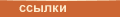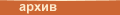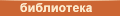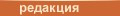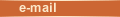Пьер НОРА
РАССТРОЙСТВО ИСТОРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Что может быть естественнее, чем воздать справедливость людскому страданию? Что может быть безвредней, чем символическим актом законодателя дать коллективному преступлению ту оценку, которую оно заслуживает с моральной точки зрения? Что может быть справедливей, чем гарантировать жертвам защиту закона, который бы предусматривал возможную компенсацию и санкции против его нарушителей? Именно такие мотивы служат в глазах общества и депутатов, которые за них голосуют, мнимым оправданием для целого ряда законов нового типа, которыми Франция обзавелась за последние пятнадцать лет. Все они касаются не вызывающих сомнения коллективных преступлений и призваны предоставить борющимся за них категориям лиц те гарантии, которые в 1990 г. были предоставлены евреям в силу закона Гейсо. Однако следует ясно и чётко понять, какая логика лежит в основе этих точечных мер, какие процессы к ним привели и чем всё это может закончиться. Дело в том, что под покровом благородных устремлений (которые чаще всего скрывают лишь предвыборную демагогию и политическую трусость) лежит целостная философия, удачно приспособленная к духу времени, ведущая к всеобщей криминализации прошлого, и следует чётко понять, что она подразумевает и куда ведёт.
Это следует осознать как можно скорее, потому что, если после всех протестов историков, всех заверений политических деятелей, всех предостережений президента Республики («История не пишется законами»), всех парламентских и министерских комиссий, призванных направлять и регулировать проявления «долга памяти», в Национальной ассамблее снова окажется большинство, готовое законодательно решать, что в истории является истиной, ничто не помешает расширению понятий преступлений против человечности и его переносу на всех жертв национальной и даже всемирной истории, ведь, например, к резне армян в 1915 г. Франция не имела никакого отношения. А отсюда — прямой путь к уголовной ответственности для тех, кто ставит эти преступления под сомнение.
Понятие «преступление против человечности» было создано для современных событий, которые не в силах был вместить разум и которые были настолько чудовищны и масштабны, что не подпадали ни под одну юридическую категорию. Оно характеризовало настоящее и не касалось ни воспоминаний, ни памяти, ни прошлого. Что касается закона Гейсо, принятого как реакция на негационизм Форессона, он был направлен не против историков, а против активистов исторической лжи.
С продолжениями закона Гейсо и расширительным толкованием преступлений против человечности мы попадаем в двойную ловушку: ретроактивного применения закона и сплошной виктимизации прошлого.
Ретроативное применение закона и отсутствие срока давности, на которых строились решения Нюрнберга, а затем закон 1964 г., как и закон Гейсо, который на них ссылается, были ограничены периодом нацистских преступлений. Обратная сила закона простиралась по времени лишь на пять-шесть лет назад. За несколько лет мы сумели шагнуть от этих шести годов до шести веков.
Ничто не мешает потомкам всех жертв за историю Франции потребовать и получить то же самое, чего добивались сыновья и дочери потомков рабов. Официального признания ждёт вандейский «геноцид», у русских «белых» достаточно доказательств зверств, устроенных коммунистами на Украине, а у польских беженцев — массовых расстрелов в Катыни. Затем, с неопровержимыми доказательствами последуют потомки протестантов Варфоломеевской ночи, гильотинированных аристократов, уничтоженных альбигойцев. И почему бы Франции заодно, во имя фундаментальнейших принципов, не взять на себя компетенцию в области памяти во всемирном масштабе, предъявив обвинения испанцам и американцам за истребление ими индейцев, как на севере, так и на юге Америки. А китайцам за Тибет? На сегодняшний день на рассмотрение двух палат Парламента поступило, кажется, уже около двадцати подобных законопроектов. Почему бы не дойти до времён Крестовых походов? Ведь в глазах исламского мира именно тогда началась история преступлений Запада, в которой Франции принадлежит одна из первых ролей.
История — всего лишь длинная череда преступлений против человечности. И, поскольку авторы этих преступлений уже мертвы, подобные законы предназначены только для того, чтобы преследовать в гражданском либо уголовном порядке историков, изучающих эти периоды, и профессоров, которые их преподают, предъявляя им обвинения в соучастии в геноциде или «преступлениях против человечности». Я преувеличиваю? Вспомним о том, что лишь широкая и активная мобилизация историков, по собственному признанию президента Ассоциации антильцев, гвианцев, реюньонцев и махорцев (Colletctifdom), заставила её отозвать иск против Оливье Петре-Гренуйо, автора книги «Чёрная работорговля».
Сегодня над сообществом историков нависло невыносимое подозрение в том, что они всего лишь защищают свои корпоративные интересы. Так, словно бы история, в конечном счёте, была просто памятью одной профессиональной группы, которая трясётся над своими карточками и привилегиями и из-за своего спокойного ремесла сделалась глуха к подлинной истории, состоящей из боли и страданий мужчин и женщин. Словно бы это была такая же память, как и все остальные. Это серьёзный упрёк. Он демонстрирует, сколь велик ущерб от гегемонии памяти и как велико её всемогущество. Пришло время опасной радикализации памяти и её корыстного, неправомерного и неподобающего использования.
* * *
На первых порах пробуждение памяти эмансипирующихся меньшинств — будь они социальными, религиозными, сексуальными или региональными — казалось ярким освободительным актом, формой восстановления справедливости по отношению к угнетённым, униженным, выкинутым на обочину истории, по крайней мере, как она преподавалась в школе. Благодаря возникшему тогда же у исследователей интересу к скромным подмастерьям истории, пробуждение памяти меньшинств привело к чрезвычайно быстрому расширению вопросника историков, плодотворному обогащению их теоретических перспектив и практики, если не к полному обновлению дисциплины. Наряду с другими направлениями, мемориальное измерение плодотворно проявилось в устной истории, истории рабочих, аграрной истории, истории женщин. С 1970-х по 1990-е гг. мы стали свидетелями удивительного расширения и даже революции в историческом сознании и познании, которые можно сравнить только с такими вехами, как либеральная и романтическая историография, историография критическая и позитивистская, а затем появление «Анналов». Память придала истории новый импульс, обновила подходы к прошлому и проникла во все периоды и отрасли исследования.
Проблемы начинаются в тот момент, когда история, которая никому не принадлежит и призвана сделать прошлое всеобщим достоянием, начинает писаться под давлением мемориальных групп, стремящихся насадить своё собственное прочтение прошлого. Это ведёт к изменениям принципиально иной природы и сдвигам принципиально другого масштаба. Мы переходим от скромной памяти, которая лишь просит признания, уважения и хочет войти в большой нарратив коллективной истории нации, к памяти, обвиняющей и уничтожающей эту историю. Навязывающей вместо общей интерпретации своё пристрастное и однобокое мнение. Нетерпеливо требующей придать своей версии прошлого официальный статус и оградить её стеной республиканского закона. Готовой во имя страдания, которое она путает с истиной, отстаивать свои требования, не слишком задумываясь о средствах: политическом сектантстве, предвыборном шантаже, а, если понадобиться, — физических угрозах и личных выпадах. Да идёт ли всё ещё речь о памяти?
Мы видим этот процесс в действии, когда, скажем, государство отказывается от чествования битвы при Аустерлице, в котором принимала участие вся Европа, под тем предлогом, что оно прославляет колониальную политику Наполеона. Или когда власти решают не отмечать 400-летие со дня рождения Корнеля, потому что члены его семьи будто бы были связаны с трансатлантической работорговлей. Пятнадцать лет назад я счёл себя вправе охарактеризовать то время как «эпоху коммемораций». С тех пор успели учредить столько же национальных церемоний, сколько до того за целый век Республики. Однако самые большие опасения вызывает не сама эта стремительная инфляция, а тот факт, что из шести установленных дат половина окрашена в цвета покаяния (16 июля — против расистских и антисемитских преследований; 10 мая — память о работорговле и рабстве; 25 сентября — дань памяти арки1), а остальные (Индокитай, Северная Африка) свидетельствуют о дроблении памяти ветеранов и давлении со стороны различных групп интересов внутри их сообщества. Не стоило ли мне в таких условиях скорее говорить о контр-коммеморации, или негативной коммеморации? Появление всё новых и новых законов, криминализирующих прошлое, наподобие тех, что уже были и ещё могут быть приняты после заключения в апреле 2007 г. по инициативе Франции европейского рамочного решения, вводящего во всех странах Евросоюза ответственность «за публичную апологию, отрицание либо грубую банализацию» геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, ведёт к распространению истории этого типа и её превращению в государственную политику.
Если историки выступили против самого принципа т.н. «мемориальных» законов, то вовсе не для того, чтобы зарезервировать за собой — как собственность корпорации, как особую «память», претендующую на статус науки, — эксклюзивное право на истину в последней инстанции. Дело в другом: в силу своего гражданского призвания они просто находятся в первых рядах борьбы, касающейся всего общества, борьбы за интеллектуальную свободу и гражданские свободы в демократическом государстве.
Всеобщая тенденция переписывать прошлое в свете памяти и судить его от её имени прямо ведёт к упразднению любых форм исторического мышления и духа истории. Этого ли мы хотим? Готовы ли мы принять все последствия этого шага?
Память, по определению, стирает хронологические различия и переходы, игнорирует факторы трансформаций и условия изменений. Речь больше не идёт о том, чтобы понять и объяснить другим прошлое ради него самого, познать его, чтобы сделать зримым, воссоздать цепь причин, которые сделали нас тем, чем мы являемся сегодня, а о том, чтобы пригвоздить к каждому феномену прошлого оценку, основанную на сегодняшних критериях и ценностях, как если бы сами эти ценности и критерии не были продуктами истории и существовали испокон веков. Сегодня мы искренне верим и живём в тени прав индивида. Во многих отношениях это, конечно, отрадно, однако сами эти права имеют долгую историю. Случилось так, что память незаметно переплелась с моралью и поглотила историю.
В этом состоит изначальный порок, заложенный в опасном расширении категории преступлений против человечности. Само по себе, появление подобного понятия, возможно, свидетельствует о прогрессе сознания человечества, для которого просмотр телевизионных новостей ежедневно даёт поводы для справедливого негодования. Однако, если щедро и не слишком задумываясь переносить его на далёкие времена, а также на человеческие общества, не сравнимые с нашим, которые были не хуже и не лучше для нас, а просто другие, это приводит к сплошным нелепостям. История не судит нашим судом. Она отдаёт долг памяти и воздаёт справедливость жертвам и побеждённым. Однако история, целиком переписанная и подвергнутая суду с точки зрения побеждённых и жертв, — это отрицание истории.
* * *
Потрясения истекшего века заставили все страны предъявить счета к своему собственному прошлому. Однако ни одна другая страна не испытывает таких противоречивых чувств к своей истории, как наша, что является одновременно и одним из ярчайших симптомов, и одной из глубочайших причин нынешнего французского недомогания. Ни одна другая страна не почувствовала так остро мемориальный шок, который вот уже тридцать лет будоражит весь мир, чтобы усомниться в своей национальной идентичности. Невозможно не задаться вопросом, с чем это связано.
Само собой, на протяжении своей исключительно долгой национальной истории, пронизанной стремлением к единству, всегда являвшемуся её навязчивой идеей, Франция прошла сквозь череду потрясений, которые, в первом приближении, объясняют масштаб и глубину её конфликтов памяти: это Революция и её отзвуки, поражение 1940 г. и оккупация, деколонизация и война в Алжире, наша настоящая Гражданская война (если вспомнить за последние два века лишь важнейшие события, при этом лишь те, что спровоцировали самые острые гражданские войны памяти). Это уже не так мало, но явно следует заглянуть ещё глубже.
Особенности французской реакции на бушующие в мире бури памяти и её особо острый характер, без сомнения, объясняются контрастом между мощью того светлого образа, в котором Франция привыкла себя представлять, и тяжким, запоздалым столкновением с исторической правдой, которая несовместима с этим образом, разбивает его и кажется ещё черней, чем было на самом деле. Вокруг Алжира, оккупации, Сопротивления, войны 1914 года, колонизации, если ограничиться этими примерами, было много мифов, лжи, фальсификаций, замалчивания и отрицания очевидного. Эти барьеры, воздвигнутые с помощью всех средств, которыми располагает государство, чтобы скрыть историческую правду (начиная с засекречивания архивов), подготовили почву для всех неутихающих болезненных дискуссий и запоздалых процессов. Они поддерживали вредную мысль о том, что в шкафу всегда лежит по скелету. Они превратили нас в потенциальных кающихся грешников, всегда готовых поверить в то, что карикатуры правдивы, а компенсации — легитимны. Призывы к сокрушению и покаянию всегда находят путь через трещину, пролегающую между фундаментальной ролью, которую официальная история сыграла в складывании гражданского и национального сознания, и её приземлёнными вариантами. Поскольку Франция слишком гордилась своей историей, она всегда преодолевает периоды цензуры всплесками коллективного бессознательного, за которыми следует официальное покаяние. Однако замена государственной лжи на государственную правду, а официальной истины на истину, установленную законом, ничего нам не принесёт.
В конечном счёте, главную причину того, что сегодняшнее отношение Франции к её прошлому столь болезненно, следует искать в её давнем призвании или претензии на то, что она воплощает универсальные ценности. Доказательсвами этого служат особо разрушительный потенциал недавно поднятого на поверхность вытесненного колониального прошлого и пробуждение загадочной памяти о рабстве и работорговле.
Все еропейские державы участвовали в колониальной авантюре. Экспансия на море, открытие, завоевание и эксплуатация территорий, познание других культур и стремление распространить свою собственную были, наряду с научным воображением, одним из импульсов европейского динамизма и его отличительной чертой. Сегодня эта авантюра стала главным пунктом обвинения против современного Запада. Однако лишь во Франции это обвинение было так глубоко воспринято. Оно даже заменило капитализм в роли основной мишени критического радикализма, на который Франция сохранила монополию. Ещё в большей степени, чем христианские истоки антисемитизма, колониальные преступления принуждают осудить всё то, чем мы являемся сегодня и были вчера. Это поистине смертный грех. Мы ставим себя перед ребяческим выбором, серьёзно обсуждая, следует ли целиком и полностью осудить колонизацию, бесспорно отнеся её к числу преступлений против человечности, или всё-таки в ней чудесным образом можно отыскать несколько позитивных аспектов, наподобие строительства дорог или противостолбнячной вакцинации. Две тысячи лет христианского чувства вины, на смену которым пришли права человека, были пущены на то, чтобы, во имя защиты личности, предъявить обвинение Франции и её радикально дискредитировать. Государственная школа ринулась в этот омут с тем большим усердием, что в эпоху мультикультурализма она нашла в покаянии и национальном мазохизме свою новую миссию. Некогда сыграв роль флагмана человечества, сегодня Франция — чемпион мира по угрызениям совести. Тяжёлая расплата. Странная привилегия.
Перевод с французского М.Р.Майзульса
---------------------------
|
 |
 |